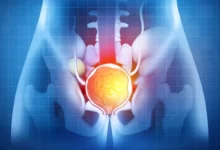Если ребенок ведет себя «тяжело», означает, тяжело сначала ему. Совладать с опаской, взять эмоции (Эмоции отличают от других видов эмоциональных процессов: аффектов, чувств и настроений) под контроль легче с психологом.

В современном обществе поход к психологу становится обыденной практикой. Больше людей соображают, что это не постыдно и не наименее нормально, чем пойти к доктору. Воззвание к психологу с ребенком — это не показатель родительской некомпетентности, а показатель того, что взрослый человек чутко относится к для себя и ребенку и готов обращаться за помощью, если что-то не выходит. Бывают даже случаи, когда предки на вопросец спеца: «Что вас волнует?» — отвечают в духе: «Да вроде, ничего, но вдруг мы чего-то не осознаем и не замечаем», — тогда и кроме диагностики малыша задачей психолога становится возвращение родителям убежденности в собственной чувствительности и компетентности. Но время от времени семье тяжело решить, в которых ситуациях все-же стоит пойти к психологу. Попробуем разобраться.
Когда пора к психологу?
Ребенок сам гласит: «Мне нужен психолог». Почаще это история про подростков либо деток предподросткового возраста, наиболее младшие изредка сами инициируют поход к психологу, если ранее никогда с ним не работали. Не постоянно при всем этом ребенок может понятно разъяснить, что у него случилось. Но это не означает, что повод легкомысленный. Время от времени поход к психологу, в особенности если идет речь о ребенке, — это метод побеседовать с каким-то нейтральным взрослым о том, о чем он никак не решается побеседовать с родителями.
Ужасы, которые выходят за границы возрастных норм либо интенсивность которых значительно мешает ребенку жить. Пик развития детских страхов обычно приходится на возраст приблизительно 5−7 лет, когда у малыша уже отлично развито воображение. В этом возрасте почти все страшатся: мглы, ужасных персонажей, умереть либо того, что умрут предки (это соединено с пониманием ребенком конечности жизни), нехороших снов и т. д. Если ребенок опасается мглы и просит бросить ему включенный ночник, в этом нет ничего «такового». А вот если уложить малыша становится настоящей неувязкой, он сжимается всем телом, отправляясь в кровать, ни ночник, ни неотклонимые приятные ритуалы засыпания не снимают напряжения, и ребенок просит его не оставлять либо при первой способности прибегает к для вас в кровать, это повод побеспокоиться.
Отдельную категорию составляют, так именуемые острые либо травматические ужасы, которые появляются в ответ на какую-то внештатную ситуацию и закрепляются.
Нормально, если укушенный собакой ребенок становится наиболее усмотрительным. Он не бежит погладить всякую собачку, а спрашивает разрешения у владельца, дает бескровной собаке корм не с руки, а кладет его на землю, пристально глядит на позу собаки, решая, стоит к ней подступать либо нет. А вот если ребенок несется, не разбирая дороги и не слыша собственного взрослого, завидев собаку на горизонте, либо вцепляется в руку взрослого, просит уйти либо за километр обойти небольшую миролюбивую собаку на поводке, то это уже повод сходить к психологу.
Трудности в разговоре, которые тревожат малыша. Время от времени предки желают, чтоб ребенок был открытым и коммуникабельным, им трудно принять, что их отпрыск либо дочка интроверт с глубокими переживаниями, которому для счастья хватает и 1-го, но зато верного друга. Другое дело, когда друзей у малыша нет совершенно, ребенок сетует, что с ним не желают разговаривать, он пробует «брать» друзей либо хоть какое общение завершается ссорой.
Злость. Когда плохо говорящий ребенок, пытаясь получить желанную игрушку либо отстоять свою вещь, может ударить, толкнуть либо укусить другого — это норма. Просто у малыша нет еще ни средств разъяснить, что он желает, ни достаточного уровня самоконтроля. Если ребенок защищается кулаками от нападения либо в некий момент применяет силу в ответ на обзывательства либо оскорбления, это норма. А вот если он пускает результативную либо вербальную злость, не пытаясь условиться, не может принимать отказов либо запретов в принципе, стоит разобраться, в чем причина.
Аутоагрессия. Это злость, направленная на себя. Ребенок может лупить, царапать себя, дети могут резать себя ножиком либо бритвой, прижигать тело сигаретами, в общем, преднамеренно причинять для себя боль (физическое или эмоциональное страдание, мучительное или неприятное ощущение) различными методами. Как минимум аутоагрессия быть может свидетельством того, что ребенок не совладевает с какимито сильными переживаниями. У подростков самоповреждающее поведение нередко служит сигналом того, что в семье нарушена коммуникация и предки «слышат» малыша лишь в ситуациях мощного неблагополучия. Исключение, когда ребенок разово наносит для себя повреждения и эти повреждения несерьезны. Нередко они таковым образом пробуют копировать поведение сверстников либо осознать «а в чем прикол-то».
Невротические проявления на телесном уровне (невротический кашель, тики, дневной и ночной энурез либо энкопрез, подъем температуры, рвота (рефлекторное извержение содержимого желудка) либо боль (физическое или эмоциональное страдание, мучительное или неприятное ощущение) в животике в тревожных ситуациях и т. д.). Когда мы говорим о невротических проявлениях, идет речь конкретно о том, что с мед стороны у малыша никаких заморочек нет, и докторы разводят руками. К примеру, животик может начинать болеть с утра перед школой, при этом по состоянию малыша вы видите, что он буквально не симулирует, но стоит бросить его дома, как через весьма куцее время нездоровой весел и полон сил.
Опасности суицида. Оценить опасность суицида может лишь врач-психиатр, но сами по для себя суицидальные мысли — это уже серьезно. Время от времени предки молвят: «Это манипуляция». И время от времени так оно и есть. Неувязка в том, что на волне чувств ребенок может попробовать от слов перейти к делу, и постоянно есть риск, что попытка окажется удачной.
Трудности в детско-родительских отношениях. Время от времени родитель (один из ближайших родственников человека, составляющий основу семьи) соображает, что все доступные и допустимые (лупить малыша неприемлимо ни при каких обстоятельствах) ему воспитательные средства исчерпаны, а тяжелое поведение малыша не изменяется. Ребенок ничего не делает назло и просто так. За сложным поведением могут стоять различные препядствия: чувственная незрелость, мощные переживания, внутриличностный либо межличностный конфликт (наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах, возникающий в процессе социального взаимодействия), несоответствие родительских требований возрасту либо особенностям малыша, непоследовательность в воспитании, пробы отпрыска либо дочки привлечь родительское внимание либо даже отвлечь это внимание.
Часто малыши начинают отвратно себя вести либо резко плохо обучаться, пытаясь таковым образом неосознанно соединить родителей, подумывающих о разводе. Ну и, естественно, нормативные кризисы развития еще никто не отменял.
Травма. С одной стороны, как спец я радуюсь, мы живем в относительно «сытые» времена, и у почти всех родителей есть возможность хлопотать не только лишь о выживании семьи и малыша, да и о его психических потребностях. С иной, время от времени вижу, что современные предки чрезвычайно страшатся травмировать малыша.
Детки в большинстве собственном — достаточно устойчивые существа. Чтоб некое событие сделалось травматическим, обязано совпасть несколько критерий: событие обязано выходить за границы обычного опыта малыша (избиение -это не нормативный опыт, даже если это обычный метод воспитания в семье, а развод родителей хоть и нормативный, но не обычный); ребенок должен ощутить себя в ситуации немощным и беззащитным и не мочь никаким образом от нее уйти либо получить в ней поддержку важных взрослых; по окончании ситуации ребенок должен остаться без поддержки важных взрослых в собственных переживаниях.
При совпадении 2-ух из 3-х перечисленных критерий ребенок может получить психическую травму. Потому развод родителей быть может для малыша травматическим опытом, а быть может связан, напротив, с облегчением — взрослые не стали повсевременно ссориться и оба по очереди проводят с ним довольно времени.
Ребенок не желает обучаться. Детки по собственной природе очень пытливы, потому стойкое нежелание малыша обучаться заслуживает внимания и буквально не на уровне: «Сколько раз для тебя гласить, нужно обучаться». Может быть, его «перекормили» различными развивашками и учебой; может быть, умственный уровень малыша либо его индивидуальности развития эмоционально-волевой сферы не соответствуют требованиям избранной школы; не исключены какие-то мощные нехорошие переживания, связанные со важными для малыша отношениями, которые заблокируют познавательную активность; предпосылкой быть может и самая реальная депрессия.
Резкие и устойчивые конфигурации в поведении и настроении малыша. Бывает, что предки не могут буквально сказать, что вот у нас таковая неувязка, но замечают, что с ребенком что-то не так. Радостная и контактная девченка вдруг стала замкнутой и плаксивой. Либо, напротив, размеренный мальчишка стал вдруг ни с того ни с этого скандальным, учителя молвят, что он как с цепи сорвался — задирает всех, грубит и дерется. Время от времени ребенок не может поведать о том, что с ним вышло по каким-то причинам (сам не соображает, это постыдно либо жутко, неясно, как разъяснить), но говорит о собственном неблагополучии своим поведением. Может быть, для вас хватит доверительного разговора, а может быть, пригодится помощь психолога либо врача-психиатра (и это тоже нестрашно).

Идем к психологу: что сказать ребенку?
Хоть какому человеку становится тревожно, когда его ведут «не усвой куда», малыши не исключение. Если большая часть современных взрослых уже в курсе, что к психологу прогуливаются «не только лишь психи», то ребенок может провести конкретно таковой анализ и напугаться. Доступное разъяснение для дошкольника либо младшего школьника может звучать так: «В крайнее время мы нередко ссоримся, я много кричу на тебя, а ты дерешься. Психолог — это человек, который помогает детям и взрослым договариваться без кликов и стычек». (Это если идет речь о конфликтах снутри семьи.)
Еще вариант для доподросткового возраста: «Я вижу, что ты на данный момент нередко плачешь, говоришь, что ты нехорошая, ругаешь себя. Психолог — это человек, который помогает совладать с мощной грустью (обидой, гневом, опаской, ужасами и т. д.) и поверить в себя. Ребенку можно отдать наиболее взрослое разъяснение. Но в любом случае принципиально заботливо, не обвиняя малыша, обозначить делему и объяснить, чем занимается психолог. Может быть, у малыша возникнут вопросцы, на которые для вас будет трудно ответить, тогда можно условиться, что вы спросите это у психолога вкупе.
Психолог — это навечно?
«И что мне сейчас, всякий раз чуток что, идти к психологу?» — крутится идея в голове у встревоженного родителя, в особенности если идет речь о платном консультировании. Задачка психолога — возвратить для вас и ребенку способность управляться со своими переживаниями и отношениями без помощи других.
Поверьте, отличному спецу нет никакого энтузиазма задерживать вас только ради средств, у него очередь на прием, и вы буквально не единственный, кто может ему заплатить. Наиболее того, на первых встречах психолог обычно заключает договор с родителем и ребенком, который отвечает на вопросцы: что они ожидают от работы с психологом и как сумеют осознать, что работа движется в подходящем направлении. В любом случае вы постоянно сможете обсудить свои опаски и эффективность работы с психологом и принять решение, стоит ее продолжать либо нет.